Мы не проповедуем войны — уже по одному тому, что такая проповедь была бы слишком смешна из наших слабых уст; мы утверждаем лишь, …что борьба неизбежна… Россия не принадлежит к Европе ни по кровному родству, ни по усыновлению, если главные цели Европы и России… противоположны одна другой, взаимно отрицают одна другую… Европа не случайно, а существенно нам враждебна; следовательно, только тогда, когда она враждует сама с собою, может она быть для нас безопасною.
Николай Данилевский
Я, пожалуй, на стороне зомби. Они хорошие парни — то есть, разумеется, они не хорошие парни, у них, знаете, есть проблема. Но они не врут, не жульничают. Они довольно откровенны. Понимаете, я… вырос с этой идеей — я американец. Американцем быть круто. Я думал, что мы единственные хорошие парни на свете. Со временем я понял, что это ничего общего с действительностью не имеет. Я просто не смогу тебе объяснить, как я разочарован.
Джордж Ромеро, классик фильмов о Зомби-апокалипсисе
Украинский кризис — момент истины в отношениях между Россией и Западом. В предшествующие годы и века Россия (Московия, СССР и т.д.) выступала в качестве участника «европейского концерта», примыкала к тем или иным коалициям. «Русский фактор» не дал реализоваться двум грандиозным евроинтеграторским проектам — наполеоновскому и гитлеровскому — благодаря которым «Западный мир» мог бы полностью «консолидироваться» не в конце XX века, а раньше. Роль России (СССР) после Второй мировой войны тоже не была самодостаточной русской ролью: противостояние мира коммунизма евроантлантическому миру разыгрывалось по западным партитурам и в западном стиле. И только весной 2014 года карты вскрылись — Россия (если судить по официальной позиции государств Европы, Северной Америки и их цивилизационных союзников) оказалась в изоляции. В унисон с евроатлантами не играют разве что Китай (игрок сильный, но всегда солирующий) и некоторые развивающиеся страны Азии и Латинской Америки, недовольные «однополярностью», но в той или иной степени зависимые от Запада экономически и культурно.
БУДЬТЕ В КУРСЕ
- 11.06.14 ЕС и Россия – силы не равны: мнение
Украинский кризис — всемирно-исторический момент истины. Решается судьба Запада, судьба России и всего человечества. А в массовом сознании — и на Западе, и в России — практически полная дискоммуникация. Наивные и преувеличенно оптимистичные надежды на «Русскую весну» презрительно отвергаются зарубежными и доморощенными приверженцами «общечеловеческих ценностей» — по их безальтернативному «знанию как надо», речь идет ни о каком не о столкновении цивилизаций, а всего лишь о противостоянии обреченного авторитарного режима Путина объединенным нациям глобальной демократии, чья победа гарантирована. Вековой давности прогноз о начавшемся «Закате Европы» объявлен — устами ведущего геополиттехнолога Западного мира — несостоятельным лет сорок назад. «То, что есть истинного у… Шпенглера, давно уже препарировано наукой и включено в наш культурный кругозор, — сказал в 1976 году Збигнев Бжезинский. — Остальное, и особенно сценарий будущего, состоит из сплошного фантазерства, и я решительно против того, чтобы мы позволяли всякого рода фантазерству брать нас на буксир и вести по пути, которым мы не желаем идти и наверняка не должны идти».
Между тем, осмысление и непротиворечивое описание происходящего, основанное на определенной системе аргументов, жизненно необходимо именно сейчас, когда возможность диалога между Россией и Западом сведена к минимуму. Когда на локальной гражданской войне в соседней стране гибнут первые жертвы очередного необъявленного Drang nach Osten’а, претендующего на «окончательное решение русского вопроса».
I. Большой Брат смотрит в другую сторону
Отдавая в печать результаты своего десятилетнего писательского труда и всей творческой жизни — двухтомник «Der Untergang des Abendlandes» («Закат Западного мира», в переводах на английский и русский языки — «Закат Европы»), Освальд Шпенглер ни на секунду не сомневался в том, что именно он выводит на свет: «здесь речь идет не о некой теории, мыслимой наряду с другими и подлежащей исключительно логической проверке, но о единственной и, так сказать, естественной современной философии, которую все смутно предчувствовали. Сказать это следует безо всякого бахвальства. Исторически необходимая мысль,… которой суждено не прийтись на эпоху, но эпоху обозначить, лишь в ограниченном смысле — собственность того, на чью долю выпало быть ее автором. Она принадлежит всему тому времени вообще».
Как здесь, так и в другом месте — сравнивая свою «морфологию мировой истории» и ее место в истории человеческой мысли с открытием Коперника — Шпенглер и правда не бахвалился. Он просто слишком много знал. И его (и других историков) бескрайние знания слишком эффектно превращались в стройную систему, а тысячи исторических фактов находили в ней свое место, чтобы после этого всерьез воспринимать «линейную» концепцию всемирного прогресса, трехчастную (Древний мир — Средние века — Новое время) «всемирную историю». Это действительно было бы подобно тому, как — после открытия гелиоцентрической концепции — продолжать всерьез развивать заумные теории эпициклов и рассуждать о вращении планет и звезд вокруг Земли.
Идея Шпенглера — как и всякая воистину великая идея — может быть (в основных чертах) изложена просто и кратко, несмотря на то, что сама книга «Закат Запада» написана сложным поэтическим языком и имеет запутанную ассоциативную структуру изложения. Идея эта сводится к следующему. «Сплошная» мировая история — иллюзия. Человечество развивается в формате «высших культур» (предшественник Шпенглера Николай Данилевский говорит о «культурно-исторических типах», Арнольд Тойнби и Сэмюэл Хантингтон — о «цивилизациях», Лев Гумилев — о «суперэтносах», Александр Зиновьев — о «социальных организмах» и т.д.). «Культура» надэтнична. Она зарождается в локальной зоне на поверхности Земли, накапливает силы, бурно развивается, расширяясь и вовлекая соседние племена и страны, достигает стадии «высшей культуры» — на этой стадии приобретают максимальный масштаб все проявления духа данной культуры (науки, искусства, политические и экономические формы), — а затем переходит в стадию «цивилизации», прекращает качественное развитие (но продолжает количественное). Этап цивилизации — это этап начала заката «высшей культуры». Естественное время жизни «высшей культуры» — примерно 2500 лет. Ее уход с мировой арены может быть оформлен по-разному — мирное угасание в окружении «наследников» (как это было с греко-римской культурой), насильственная гибель от руки пришельцев (так погибли культуры майя, ацтеков и инков). Закат Запада, по Шпенглеру, придется на предстоящие три-четыре столетия. Если в ближайшие годы (писано в 1922 году) Запад не выдвинет нового Наполеона, который соединит Западную империю силой, то к концу века «империя» сформируется добровольно, на базе экономического союза европейских стран, Японии и США. Скорее всего (так полагает Шпенглер), культурой, которая, возможно, будет играть главную роль на мировой арене будущих веков, станет «русская культура» (здесь и далее определением «русский» обозначается — и это следует особо подчеркнуть — вся совокупность цивилизационных характеристик, выходящих как за рамки великорусского этноса, так и за пределы славянского мира — Д.Ю.). Она на десять веков моложе западной и воспринимается как ее часть ошибочно, в результате «псевдоморфоза» — искусственного и насильственного втискивания зарождающегося нового организма в чуждые ему западные формы Российской империи волей Петра I и его наследников.
Шпенглер подробно и глубоко описывает морфологическую структуру жизни и умирания «высших культур». Он — анализируя исторические факты — выделяет общее для всех таких «суперорганизмов» и совершенно четко отделяет это общее от уникального, индивидуального, свойственного каждому из них. Шпенглер, в отличие от, например, Льва Гумилева и Арнольда Тойнби, минимизирует «научные» или философские домыслы — он не ищет причин и объяснений, разве что указывает на соотнесение «духа» и «прасимвола» каждой культуры с ландшафтом, в котором она родилась (одномерная египетская — вдоль великой Реки, телесная античная — в стеснении «живых уголков» Эгейского побережья, пространственная западная — в прирейнских просторах, структурированных скалами и лесами).
Многие и многие — и до Шпенглера, и после него — говорили о несостоятельности примитивного европоцентризма «единой мировой истории». В своем необъятном «Исследовании истории» англичанин Тойнби, в частности, называет «тезис о единстве цивилизации ложной концепцией, к которой современных западных историков привело влияние их социального окружения». Устойчивость этой ошибочной концепции он объясняет тем, что «в современности наша западная цивилизация набросила сеть своей экономической системы на весь мир». Николай Данилевский более чем за сорок лет до Шпенглера излагает свою систему представлений о «культурно-исторических типах развития» и обосновывает ее преимущество над гипотезой о «единой истории» тем, что она «избавляет от необходимости прибегать к помощи не на чем не основанных гипотез о той точке пути, на которой в тот или иной момент времени находилось человечество».
Шпенглер, абсолютно уверенный в неминуемой и быстрой победе своего подхода — столкнулся с парадоксальной (хотя и предсказанной им) реакцией. Единственное, что стало сенсацией — само название его книги. Что касается сущности его идей — то от них (равно как ранее — от идей Данилевского) общественность (широкая вместе с профессиональной) оказалась полностью экранирована. О механизме такого экранирования, по эффективности не сравнимом ни с какой цензурой и «индексами запрещенных книг», сам Шпенглер высказался исчерпывающе в том же «Закате»: «Некогда запрещалось иметь смелость мыслить самостоятельно; теперь это разрешено, однако способность к тому утрачена. Всяк желает думать лишь то, что должен думать, и воспринимает это как свою свободу. И вот еще одна сторона этой поздней свободы: всякому позволено говорить что хочет; однако пресса также свободна выбирать, обращать ей внимание на это или нет. Она способна приговорить к смерти всякую «истину», если не возьмет на себя сообщение ее миру — поистине жуткая цензура молчания, которая тем более всесильна, что рабская толпа читателей газет ее наличия абсолютно не замечает... Годы схоластики оказываются в мировой истории единственным примером духовной муштры, не позволявшей ни в одной стране появиться ни единому сочинению, ни единой речи, ни единой мысли, которые бы противоречили желательному единству... Однако как раз это возвращается вновь как необходимое следствие европейско-американского либерализма, совершенно так, как это имел в виду Робеспьер: «Деспотизм свободы против тирании». На место костров приходит великое молчание...»
Судьба нового понимания истории оказалась удивительной: через сто лет после Шпенглера, через сто сорок лет после Данилевского их «коперниковские» идеи остаются достоянием предисловий к учебникам истории, а давно исчерпавшая себя «птолемеева» (западоцентрическая) историография продолжает форматировать историческое сознание специалистов-историков, профессиональных политиков и широких масс. Разговор по существу, разговор о самых важных аспектах современной истории оказывается не просто запрещен — он оказывается нереализуем. Рассуждать об альтернативах «общечеловеческой глобальной демократической цивилизации» становится лингвистичеси невозможно — примерно как сформулировать на новоязе фразу «Big Brother is ungood». Тем не менее, придется.
II. Россия и Запад
Общую судьбу России и Запада можно понимать и анализировать, но невозможно предсказать. Потому что мировой опыт «заката» одних культур и «восхода» других не помогает — уникальны как современный Запад, так и его возможности в отношении других человеческих сообществ и всего человечества.
Шпенглер, многое говоря о качественной уникальности западной культуры, в контексте своей борьбы с «концепцией линейной истории» не концентрирует внимания на том, какой колоссальный количественный скачок в освоении и хранении всепланетной информации сделал предзакатный Запад, и какие фатальные последствия для человечества эта количественная глобальность западной культуры имеет с учетом специфики «западной души».
Эту специфику Данилевский сводит к чертам романо-германского национального характера, главной из которых он называет «насильственность (Gewalt-samkeit)». По его мнению, насильственность «есть не что иное, как чрезмерно развитое чувство личности, индивидуальности, по которому человек, им обладающий, ставит свой образ мыслей, свой интерес так высоко, что всякий иной образ мыслей, всякий иной интерес необходимо-должен ему уступить, волею или неволею, как неравноправный ему. Такое навязывание своего образа мыслей другим, такое подчинение всего — своему интересу даже не кажется с точки зрения чрезмерно развитого индивидуализма… чем-либо несправедливым. Оно представляется как естественное подчинение низшего высшему, в некотором смысле даже как благодеяние этому низшему (сэр Редьярд прямо предложил Белому Человеку: «пошли своих сыновей на службу тёмным сынам земли» — Д.Ю.). Такой склад ума, чувства и воли ведет в политике и общественной жизни, смотря по обстоятельствам, к аристократизму, к угнетению народностей или к безграничной, ничем не умеряемой свободе, к крайнему политическому дроблению; в религии — к нетерпимости или к отвержению всякого авторитета. Конечно, — старается соблюсти объективность Данилевский, — он имеет и хорошие стороны, составляет основу настойчивого образа действий, крепкой защиты своих прав и т.д.»
Оценка Данилевского, которого с нелегкой руки Владимира Соловьева давно зачислили в славянофилы-обскуранты, эффектно резонирует с выводами Шпенглера. «Западноевропейский человек, причем всякий, без исключения, пребывает… в плену колоссального оптического обмана. Все друг от друга чего-то требуют. Фраза «ты должен» высказывается в том убеждении, что здесь в самом деле что-то должно и может быть изменено, оформлено, упорядочено. Вера в это, как и в соответствующее право, оказывается непоколебимой. Здесь приказывают и требуют повиновения. Это-то в первую очередь и именуется у нас моралью. В нравственной сфере Запада все оказывается… претензией на власть… В этом нет никакой разницы между Лютером и Ницше, папами и дарвинистами, социалистами и иезуитами. Их мораль заявляет о себе вместе с претензиями на всеобщую и долговременную значимость… Всякий, кто мыслит, учит и волит как-то иначе, — грешник, отступник, короче, враг. Ему объявляют беспощадную войну… Неправильно связывать с нравственным императивом христианство «как таковое». Это не христианство переформатировало [западного] человека, а он переформатировал христианство, причем не просто в новую религию, но и в направлении новой морали… Воля к власти также и в области нравственности, страстное желание возвысить собственную мораль до всеобщей истины, навязать ее человечеству, желать … уничтожить всё, что не таково — вот исконнейшее наше достояние…» — так полагает искренний прусский националист и высокообразованный европейский интеллектуал Шпенглер.
Эта уникальная специфика Запада, претендующего на экспансию глобальную, то есть всепланетную, а главное, в принципе не способного к эффективной сдерживающей рефлексии (то есть всегда уверенного в нравственной оправданности своей экспансии, в «знании как надо») за время становления западной цивилизации уже привела к нескольким необратимым и страшным последствиям. Западный мир — единственный мир-убийца: на его счету гибель как минимум двух самостоятельных цивилизаций (ацтеков и инков), уничтоженных конквистадорами походя, без особой необходимости и даже без осмысленной цели. В этом — полное несовпадение западного «большого стиля» с экспансией Римской империи (которую Запад ошибочно считает своей прародительницей), равно как и со становлением «русского мира», российской колонизацией огромных евразийских пространств.
Римские когорты, входя в города и подчиняя народы, брали под контроль только одно — систему управления. Формальная, управленческая лояльность со стороны «захваченных» обеспечивалась — в обмен — фантастической (с современной европейской точки зрения) идеологической лояльностью «захватчиков», доходившей часто до включения локальных богов в единый имперский пантеон. Иной — но также вовлекающей, гармонизирующей — была русская экспансия: в отличие от римлян, русские «колонизаторы» претендовали даже не на управленческую лояльность, а — часто — на «личные», «доверительные» отношения, на — как ни смешно это покажется — «дружбу народов» под эгидой «белого царя».
Скорее всего, «русский мир» и попросту не выдержал бы прямого столкновения с Западом, если бы его — вопреки мнению славянофилов — не спас Петр Великий. Интересно, что Шпенглер и Данилевский парадоксально расходятся во взглядах на роль Петра I в русской истории. Шпенглер полностью совпадает в своей оценке со славянофилами: «Петр Великий сделался злым роком русскости… Народу, чье предназначение — еще поколениями жить вне истории, была навязана искусственная и неподлинная история». Славянофил Данилевский, со своей стороны, признает Петра спасителем «русскости» — если бы не насильственная и искусственная европеизация русской жизни, полагает он, Россия не вынесла бы предстоящей борьбы против неминуемого Drang nach Osten, она просто не получила бы для самозащиты необходимых инструментов, хотя ценой их получения и стал «величайший вред будущности России» — «искажение народного быта и замена его форм формами чуждыми».
Результатом «петровского псевдоморфоза» русского культурно-исторического типа становится не только выживание и сохранение России, ответившей Западу на его языке и его оружием, но и ее участие в европейской истории не в своей роли и не в своих интересах. Данилевский приводит долгий перечень несправедливостей и травм, нанесенных России неблагодарными «союзниками», то и дело спасаемыми силой русского оружия от своих собственных, европейских, соседей (Пруссия и вся Европа от наполеоновской Франции) или даже революционеров-сепаратистов (Австрия от венгерских повстанцев). Апофеозом неблагодарности становится, по его мнению, несправедливая и предательская Крымская война, впервые убедительно показавшая России, что ее в Европе не считают «своей». Однако урок не пошел впрок — Россия своей отдельности от Запада всерьез так и не ощутила.
В XIX веке Европа для образованных русских — это «любимое кладбище» (Достоевский), образец и пример прогресса (революционные демократы), источник неприятностей и организатор нестроений (охранители-консерваторы). Вокруг западных ценностей, вокруг идей Просвещения, вокруг религиозной и политической эмансипации развивается идеология и практика великих реформ Александра II и постреформенной реакции Александра III. Но какие бы крайние формы ни принимали про- и антизападные взгляды русских деятелей, никто из них (кроме, возможно, самых радикальных представителей народного религиозного поиска) не соглашался признать Запад явлением цельным и как таковое враждебным России и русским. Западные революционеры дружили с русскими, цари, политики и чиновники вели свои игры с европейскими дворами, заключались и перезаключались союзы, достигались — после досадного поражения в Крымской войне — все более значительные победы. Разве можно было приписывать «Западу» — от дружественной новой страны по имени Северо-Американские Соединенные Штаты и союзной Французской Республики до династически родственных Великобритании, Дании и Германии — какие-либо единые русофобские позиции? Вот, например, Япония с Россией воевала, финансируя при этом революцию 1905 года, а президент США Рузвельт (Теодор) Японию с Россией мирил. Или Англия вместе с Францией поддерживала — в общей Первой мировой войне против «центральных держав» и Турции — самые смелые упования русских в направлении Цареграда и Проливов, а германский генштаб, напротив, интриговал, забрасывая в Россию своих агентов влияния на пломбированных вагонах…
Можно даже не вникать в довольно известную фактографию начала века — про тайные усилия японцев, немцев, англичан и французов, в результате соединенного действия которых обрушилась династия, а выстраданная победа русского оружия обернулась распадом Империи. «Тайная война против России» была тайной не потому, что «масонские» (или «сионские») мудрецы организовали ее по секрету. На самом деле цивилизационные конкуренты России ничего не скрывали — просто она, имея глаза, не видела, имея уши, не слышала. Вот и вся «тайна».
Само восприятие происходящего, сам язык обсуждения событий не позволяли русским умам увидеть свою вне-положенность Западу, свою роль объекта для «европейской» экспансии. Россия и русские воспринимали себя субъектом европейского исторического процесса. Между тем, достаточно будет просто отметить: Россия, одно из наиболее хорошо подготовленных к войне государств мира, держава с мощной армией и эффективной дипломатией, союзник и партнер основных центров силы в мире, за исторические ничтожное время — с середины XIX до середины XX века — была остановлена Западом, именно им вычеркнута изо всех цивилизационных проектов, ради которых она участвовала в «мировом концерте». Если в 1876 г. Данилевский мог с полным основанием проектировать будущее «Славянского союза» со столицей в освобожденном Константинополе, то с чем пришла Россия в XX век? С полной и системной потерей всех позиций, которые так или иначе зависели бы от лояльности или хотя бы отсутствия вероломства со стороны «наших партнеров» с западной стороны. С утратой шансов на «Проливы» и «Цареград». А самое главное, с западным коммунизмом, нанесшим русскому проекту сокрушительный удар в самое сердце, — удар, едва не ставший последним.
III. Россия и коммунизм
Призрак коммунизма пришел в Россию из Европы — а после его ухода из России она сама едва не осталась призраком. Коммунизм в середине XIX века подытожил европейское Просвещение, стал иррациональным обожествлением западного рационализма, довел до абсурда западный антропоцентризм, избавив идеологию Великого Инквизитора от остатков религиозной маскировки.
Однако коммунизм как западная идеология оказался для России и русских чудовищной социально-психологической ловушкой потому, что в его лицемерных, инквизиторских формулировках было погребено принципиальное различие между русской и западной системами ценностей.
Повторю здесь, не вдаваясь в подробный анализ, интуитивно очевидное. Ценности Запада — это вовсе не «Свобода — Равенство — Братство» (это всего лишь французская революционная реклама). Ценности Запада — это «Свобода — Собственность — Законность» (интересно, что так был сформулирован современным русским философом-западником официальный лозунг партии «Выбор России» на выборах в Государственную думу в 1993 году). Личная свобода. Священное право частной собственности. Закон, который должен торжествовать даже ценой крушения мира. Культ индивидуализма, конкуренции и всевластия юридической бюрократии.
Русская триада очень похожа, очень близка, но отличается в корне. Свобода, собственность и законность — для русского сознания важные, но служебные ценности. Инструменты. Свобода — инструмент для защиты чести и достоинства. Собственность — ресурс для труда и творчества. Законность — способ достижения правды и справедливости. И если бы Русская революция не стала Великим октябрьским социалистическим фальстартом, то на ее знаменах вместо французского слогана были бы, наверное, написаны слова «Честь, Труд и Правда».
Ловушка, заложенная в западном коммунизме для русской души, порождена упомянутой выше особенностью западной морали. Западная мысль не может позволить себе быть не правой. До определенного момента — пока задача избавления от химеры совести не была поставлена и решена честно — «быть правым» значило «быть хорошим», а понятие «хорошего» навязывалось — с давних времен — остатками христианства. Поэтому западный коммунизм, продолжая западный утопический социализм и западный же утопический католицизм, был вынужден кодифицировать христианские ценности, отбросив — первоначально — собственно Христа (сначала как единственного Главу Церкви — Его подменили «наместником», а потом и как Бога). В утопическом символе коммунистической веры были закреплены формулы, отвергающие то в западной душе, что осознавалось как противоречащее христианству — индивидуализм, конкуренцию и государственное насилие. Закреплены — как это было свойственно культуре Запада до ее дехристианизации — лицемерно и неискренне.
Собственно, именно о таком — западном — социализме, «ангсоце» рассказывалось в гениальном романе Оруэлла «1984». Только сегодня можно понять, что оруэлловская пародия гораздо ближе к реальности политкорректного Евросоюза XXI века, чем к брутальной сталинской диктатуре 1948 года. «Свобода есть рабство». «Незнание — сила». «Война — это мир». Но на Западе коммунизм не победил — во всяком случае, напрямую, грубо и лживо.
Оказалось, что провозглашать в качестве политических целей «идеи добра» слишком опасно — они взрывают изнутри самое важное в организме европейской цивилизации, подрывают основы «этики» и идеологии успеха, давно уже вытеснившие за пределы западной идентичности евангельские заповеди. Русский мир срезонировал в 1917 году на лозунги коммунизма совершенно по-другому. Диалектическое двоемыслие Запада было воспринято русским массовым сознанием «в лоб»: как провозглашение высших ценностей свободы, знания и миролюбия, ценностей «добра», противостоящего «злу». А поскольку русскому сознанию вовсе не свойственно быть «всегда правым», «единственно верным», то идеи коммунизма были восприняты им с колоссальным, сокрушительным Доверием. Доверием, тут же жестоко обманутым, но так и не сломленным.
Общим местом антикоммунистической пропаганды стало развенчание революционных лозунгов. Землю у крестьян отобрали и передали государству. Провозгласив народам мир, объявили войну «всем буржуям». Хлеб стали распределять по карточкам. А власть рабочих узурпировала номенклатурная бюрократия. Незамеченным осталось другое — сила (а значит, и правда) этих лозунгов пережила и грубый обман, и десятилетия жестокой диктатуры. В конце концов, именно сила коммунистических лозунгов, искренне впитанных и усвоенных миллионами бывших пионеров и комсомольцев, сокрушила казавшуюся нерушимой силу советской власти — лицемерной, бюрократической и жестокой. Потому что деятельное отторжение народом еще вчера могучего строя было бы невозможно имитировать или навязать снаружи — советская власть рухнула под ударом возвратной волны обманутого народного доверия.
Но в результате русская душа осталась наедине с идеалами, разрушенными «своею собственной рукой». Великий Октябрьский фальстарт 1917 года закончился в 1991 году Великим Августовским сходом с дистанции и едва не выгудел в гудок колоссальную мощь рождающейся русской цивилизации. Мощь, в течение семидесяти лет совершившую невозможное — она превратила безграмотный «пранарод» в эффективную человеческую силу, наделенную энтузиазмом и интеллектом, творческой энергией, военной мощью, социальной гибкостью. Силу, которая вынудила чуждую, по сути своей враждебную коммунистическую надстройку мимикрировать под русский базис, перемешивая и сплавляя воедино — до полной неразличимости в памяти потомков — великие русские успехи и огромного масштаба коммунистические провалы.
«Смыслом русского коммунизма» в XX веке стала на самом деле не прекращающаяся — а только нарастающая, и особенно страшная из-за завязанных глаз и заткнутых ушей — война Запада против становящейся русской цивилизации. Война, успешно перенесенная не просто на территорию России, а на территорию русской мысли и русского коллективного бессознательного.
Русский коммунизм перенаправил энергию «русскости» в русло решения проблем Запада. Вместо реализации своей судьбы, русские занялись собиранием «западных земель» — тех самых Abendlandes — в интернациональный «союз советских социалистических республик», в имени которого сразу же растворилось имя России. Вместо пестования своей души и своих ценностей, русские вышли в авангард западного богоборчества. Обе этих «адовых работы» решали — правда, только как вариант — обе главных задачи Западного мира: задачи выхода за государственные границы и рамки морали, задачи территориальной и моральной глобализации.
Однако глобализация Запада, его усиление и разрастание, его ориентация на конкуренцию и конфликт не могли не расширить спектр возможностей. К «глобальному миру» вело сразу несколько путей.
Путь, по которому направили Россию, пугал — слишком мощные силы были выпущены на поверхность, слишком неожиданно наполнились русским духом романтические алые паруса нарисованной бригантины. Поэтому — как реакция на неоднозначность коммунизма, на его лицемерие, на его опасное заигрывание с моральным чувством — была реализована гораздо более честная, чисто западная, альтернатива. Фашизм.
IV. Фашизм и Запад
В последнее время силу и содержательность понятия «фашизм» пытаются изо всех сил дискредитировать. Утверждается, что слово «фашизм» стало бессмысленным ругательством, синонимом слова «очень плохо», которое каждый может бросить в лицо тому, кто ему не нравится. Это — эффективная ментальная самозащита части человечества от неожиданной, пугающей актуальности фашизма.
Никакого «расширения» и тем более «растворения» понятия «фашизм» на самом деле не происходит. Фашизм — далеко на «всякое» зло. Жестокость ордынских набегов, изощренность китайских пыток, саморазрушительная ярость ближневосточных шахидов, хищничество русских «братков» — все это разные формы зла, которые вовсе не обязательно являются фашизмом.
Если попытаться сформулировать кратко, то фашизм — это нигилистический тоталитаризм, основанный на культе собственной правоты, оправдывающей любые формы ненависти и жестокости. Важнейшим принципом фашизма является отрицание биологического равноправия врага (при том что отделение «врагов» от «своих» носит абсолютно волюнтаристский характер). Это позволяет снять моральные ограничения с биологически и этически запрещенных форм человеческого внутривидового взаимоуничтожения и вогнать пораженное фашизмом общество в состояние истерической эйфории, массового садо-мазохистского психоза, освободить его от химеры совести. Формой самоорганизации общества при фашизме становится «духовная бантустанизация» — социально-психологический апартеид, разделяющий людей по достаточно формальному признаку на «наших» и «не наших». Для всех разновидностей фашизма характерна особая форма брэндинга, которая вводит в массовый обиход определенную «политическую моду» (от Хайль Ющенко до Так Гитлер — возможны варианты). Способом формирования кастовой структуры пораженного фашизмом общества (и одновременно способом выбора брэнда) является самозванчество — произвольное (не основанное ни на каких реальных предпосылках) самоотождествление какой-либо группировки с произвольно же провозглашенной символической позитивной ценностью (возможны варианты: расовая чистота, социальная справедливость, рукопожатность, иное).
Из вышесказанного следует, что фашизм — порождение именно западной культуры, дистиллят «насильственности» Запада, концентрированное выражение агрессивного западного стиля. Стиля, основанного на безудержном и бессовестном произволе фанатичной правоты. На «расизме» — не обязательно этническом, возможно — социальном, «этическом» или политическом. На публичном и — да, честном — отказе от моральных ограничений при достижении собственных целей и реализации своего успеха.
Насыщенность западных идеологий прямо противоположными утверждениями — о ценностях свободы, о протестантской этике, о Правлении и Права и т.д. — не должно никого обманывать: все эти утверждения никогда не мешали и не мешают любым проявлениям самой агрессивной жестокости.
Удивительное дело — русскому самосознанию это очень трудно почувствовать хотя бы потому, что с нашей точки зрения мы, представители русской цивилизации, гораздо более жестоки, чем Запад. Один Иван Грозный чего стоит со своими опричниками. А тут еще Петр Великий с Петербургом, построенным на костях. Не говоря уже об ужасах революций и гражданских войн, о жестоких полицейских традициях, о религиозной нетерпимости и многом другом.
И только внимательное сопоставление некоторых фактов может нас встряхнуть и огорошить. Да, ужасы опричнины и жестокости «азиатчины» Ивана Грозного — это ужасы и жестокости. О которых русские историки и политики рассуждают всегда горячо, иногда с сокрушением, иногда — со вздорным и неумным восторгом, но никогда с безразличием и отстранённостью. А вот фигуры вроде Генриха VIII (и его 7 жен и тысячи прочих жертв) уже следующим поколением соотечественников воспринимались скорее как литературные персонажи. Кровавые пляски опричников потомками, современниками, да, похоже, и участниками осознавались как нечто апокалиптическое. Правоприменение в старой доброй Англии — смертная казнь через повешение для бомжей, побирушек и мелких воришек (не говоря уже об изощреннейшей в своей изобретательности системе видов квалифицированной смертной казни, то есть сочетания разных способов медленного убивания на фоне чудовищных пыток, за более серьезные преступления) — всего лишь издержки становления самой безупречной в истории юридической практики. Гонения на старообрядцев — многих казнили, а многие покончили с собой самосожжением — до сих пор ставятся некоторыми совестливыми мыслителями в вину грубости и жестокости русской власти и русского народа. Многовековая католическая гекатомба — чудовищные пытки и публичные сожжения заживо на улицах и площадях европейских городов, — да и совсем недавние казни Салемских ведьм в благословенной Америке — все это вносится разве что в реестр обвинений в адрес Церкви (а лучше — христианства как такового), но никак не отражается на благополучной самооценке «Западного мира». Что уж тут говорить о так и не изжитом русском «крепостничестве» (нечего и пытаться использовать в качестве аргументов какие-то слова о нравственной, религиозной и иной традиционной основе взаимоотношений между помещиками и крестьянами в России) на фоне давно изжитого и такого нормального производственного процесса использования черных рабов в качестве домашних животных в стране, основанной совсем недавно на идеалах свободы и демократии!
Да что там говорить о минувших веках! Вот времена недавние — Вторая мировая война и все, что после нее. Не будем говорить о западных обвинениях в адрес СССР, одного из двух тоталитарных режимов, обрушившихся на свободу и демократию. Самообвинений хватает — и речь не идет об одиозных выпадах радикальных интеллигентов-западников! Все наше национальное самоосознание наполнено скорбью, сомнениями и горечью. Здесь и огромные жертвы, и предвоенные репрессии, и отношение к солдатам как к «пушечному мясу»… А вот западное общественное мнение — Good Guys — как-то совсем не угнетают сотни тысяч гражданских жертв в Дрездене, Хиросиме и Нагасаки.
Так что, возвращаясь к «ценностям Запада», можно назвать феномен Good Guys уникальным. Безграничная способность оправдывать самих себя позволяет Западу «списывать» всё — сотни тысяч иракцев, стертых с лица земли ни за понюшку фальшивого порошка, миллионы голодных и нищих во всем мире. Более того, современная самоуверенность морально несокрушимого Запада, основанная на «ценностях глобальной демократической цивилизации», освобождают от химеры совести эффективнее и безвозвратнее, чем самый откровенный нацизм и — потенциально — выводит за пределы гуманитарных ограничений уже не сотни тысяч и не миллионы, а миллиарды.
Парадоксальным образом фашизм — в его гитлеровском и муссолиниевском изводах — оказался интегрально менее опасен, чем глобальный демократический либерализм. Фашизм Гитлера был тоталитарен, но не был тотален — он содержал в себе ограничитель собственной мощи, потому что не мог включить в свое нацистское «мы» весь Западный мир (хотя и надеялся на это). Слишком резкий, слишком честный, слишком далекий от двоемыслия ангсоца, фашизм — это воспаление на теле Западного мира — оттянул энергию цивилизации от решения главной задачи, задачи окончательного решения русского вопроса.
V. Дожить до Восхода
Потому что Закат Запада, уверен, последует. А вот до Восхода Россия может и не дожить. Потому что Запад её «закатит» раньше. Да и не только её.
Запад не победил Россию при Петре и после Петра, потому что не был достаточно силен. Он не справился с Россией ни в XIX, ни в XX веках, потому что не смог полностью консолидироваться.
Но то, что было невозможным сделать вокруг династических принципов или религии, то, что не срослось вокруг идеи чистой расы, то, для чего не хватило антикоммунизма — то стало гораздо ближе сегодня. Когда плюрализм, свобода личности, мультикультурность и толерантность постепенно перерастают в основу небывалого, воистину тотального всемирного тоталитаризма.
Шпенглер, описывая характерные черты заката цивилизации, выделяет понятие «второй религиозности» — то, что у новой, свежей культуры возникает как живой порыв души еще до того, как возникает способность к рациональному мышлению, то, что на «пике» развития оформляется в величественные культы, совмещающие религиозное чувство и силу мысли, то на нисходящей линии — когда интеллект цивилизации угасает — проявляется вновь как яркая вспышка догматического иррационального суеверия. И если в «первой религиозности» душа культуры впервые показывает миру свой юный живой облик, то «вторая» — это прощальный взгляд стареющей и умирающей цивилизации.
Облик «второй религиозности» Запада, о котором в 1922 году Шпенглер только гадал, сегодня прояснился так же ясно, как — сбывшийся по одному из его прогнозов — облик политической системы Западного мира («Превратиться ли при посредстве Наполеона "Соединенным Штатам" Европы …в романтическую военную монархию на демократическом основании, или проделать это в XXI столетии…, притом осуществляясь в виде чисто хозяйственного факта, — все это относится к области случайностей исторической картины»). «Религия» современного Запада избавляется от «чуждых» христианских наслоений католичества и протестантизма, сохраняя, со своей точки зрения, главное, что в них есть — культ личного успеха, священное право на удовольствие и комфорт — ценой отказа от таких «лишних» и устаревших религиозных домыслов, как вера в Бога.
Конечно, это никакое не христианство — идеология гомоцентризма (в русской транскрипции слово приобретает необходимую двусмысленность) похожа на тот дух, который поднимал средневековых рыцарей в поход за Святым Граалем, как зомби на живого человека, трупом которого этот зомби является. Но всемирный апофеоз фашизма — глобальная западная зомби-цивилизация — куда опаснее, чем живой и растущий Западный мир в лучшие свои годы. Хотя бы потому, что физических сил, материальных ресурсов и оружия у зомби-цивилизации ничуть не меньше, а то и больше. А вот насчет того, чтобы коммуницировать с ней, договариваться, достигать взаимоприемлемого компромисса… Вот тут вместо хитрых, злобных, да каких угодно, но человеческих лиц — будь то Никсон, Киссинджер, Бжезинский, Тэтчер, Коль — появляются Керри, Псаки, Саманты Остин-Пауэрсы… Ну, короче, кино все смотрели? Вот так они прут, размахивая когтями, утробно рыча (о свободе, демократии, и толерантности) — и безошибочно разделяя человечество на первый (свой) и последний (всех остальных) сорта.
А это значит, что перед Русским миром — как это многократно показано в самых лучших западных фильмах категории Б и разобрано в замечательной шутке министерства здравоохранения США («Готовность 101: как пережить зомби-апокалипсис») во весь рост становится задача глубоко практическая, даже техническая. Время философий прошло, время для убеждения «западных партнеров» в чистоте своих евроинтеграционных намерений исчерпано. Свобода, конечно, лучше чем несвобода, но Россия — гораздо лучше, чем отсутствие России. Поэтому полное и безоговорочное признание факта межцивилизационного конфликта с Западом, практическое планирование и реализация действий России в этом конфликте становится вопросом не просто государственной, но и биологической безопасности для всех, кто живет и собирается жить в России, кто считает себя русским.
Для нас — для таких людей — пространство возможностей сужается. Все мы выросли в ментальной привычке к ориентации если не на западные ценности, то на западные стандарты личного комфорта. Все мы — даже не сильно воспитанные — впитали в себя лучшие гуманитарные достижения великой западной культуры. Молодая русская культура, ослабленная десятилетиями тайной войны на уничтожение, ищущая новые формы для реализации и самоопределения, скорее всего будет выглядеть для нас как варварство — то есть так, как выглядели передовые отряды готов и вандалов с точки зрения их соплеменников, воспитанных в лучших римских традициях.
Наверное, можно посочувствовать и нашим соотечественникам, которым «ватники», «колорады» и «братки» из сегодняшних фэйсбучных раскладов менее симпатичны, чем привычные хипстеры и яппи, с белыми или даже жовто-блакитными ленточками в петличках.
И, наверное, им стоит посочувствовать. Они отдали себя гибнущему миру. Они присоединились к живым мертвецам. Но свободы нам не оставили. Чтобы выжить, нам нужно сопротивляться. Чтобы дожить до Восхода России — не поддаваться смертельным флюидам Заката Запада.
19.01 — 04.05.2014. Пунта-Кана — Санкт-Петербург — Москва

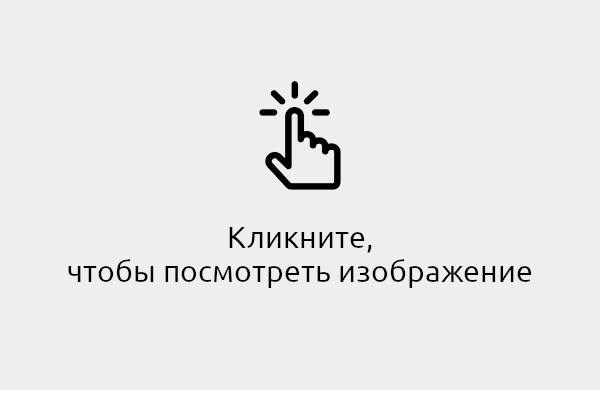

Комментарии читателей (0):